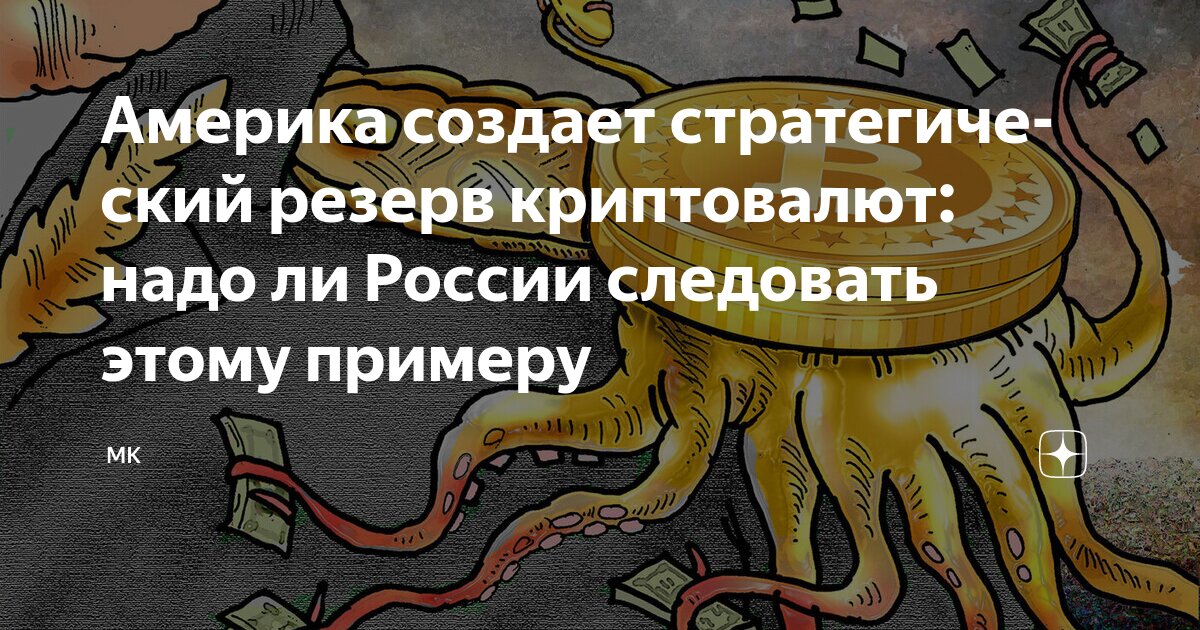
«Форт-Нокс» для биткоина: зачем Америка создает стратегический резерв криптовалют. Фото: Алексей Меринов
Несмотря на отсутствие подробной информации в публичном доступе после подписания Дональдом Трампом в начале марта исполнительного приказа о формировании стратегического резерва биткоина и других цифровых криптоактивов США, работа в этом направлении, по всей видимости, идет. Этому способствует назначение на ключевые финансовые должности сторонников криптовалют: министром торговли стал Говард Лютник, владеющий значительными криптоактивами; главой Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) — Пол Аткинс, известный адвокат криптоинвесторов; руководителем Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC) — Брайан Квинтенц, также выступающий в защиту криптовалют. Даже назначен специальный представитель президента по вопросам ИИ и криптовалюты — венчурный инвестор Дэйвид Сакс.
Инициатива получила поддержку и в Сенате. Ранее отклоненный законопроект о резерве биткоина снова внесен и, вероятно, будет принят при поддержке обеих партий. Но каковы реальные причины создания крипторезерва в США? И стоит ли другим странам, включая Россию, перенимать этот опыт?
Стратегические государственные резервы обычно делятся на материальные (например, продовольствие, топливо), используемые в чрезвычайных ситуациях и для стабилизации внутренних рынков, и международные (золото, иностранная валюта, высоколиквидные активы), предназначенные для обеспечения экономической независимости и международной платежеспособности.
К какой категории относится криптовалютный резерв? Очевидно, не к материальным, поскольку биткоин не имеет внутренней ценности, применимой в реальном секторе. Он также не является полноценным аналогом валютных резервов, так как биткоин обладает низкой ликвидностью (крупные сделки резко влияют на его цену), высокой волатильностью (что мешает использовать его как меру стоимости или средство накопления), и ограниченным применением как средства обращения (в основном для специфических или теневых операций). Кроме того, биткоин подвержен значительным рискам, связанным с кибербезопасностью, неопределенным регулированием и технологическими аспектами.
Почему же США, будучи эмитентом главной мировой резервной валюты, идут на создание такого уникального резерва? Их золотовалютные резервы не самые большие в мире (около 250 млрд долларов по сравнению с 680 млрд у России), но экономика США опирается на доверие к доллару и крупнейший золотой запас (примерно 760 млрд долларов). Один из аргументов в пользу крипторезерва: если США могут обеспечить доверие к доллару, то почему бы не распространить его на биткоин?
Вторая причина — значительные объемы биткоинов, уже находящихся у американского правительства после конфискации у преступников (оцениваются в 25 млрд долларов, что больше стоимости нефти в госрезерве США). Из-за специфики биткоина эти активы сложно использовать обычным путем. Включение их в резерв позволяет формально отразить эту крупную сумму на балансе государства.
Третье соображение, озвученное в предлагаемом Конгрессу «Акте о биткоине», заключается в использовании биткоина как средства снижения госдолга США. Исходя из предположений о среднем росте долга в 5% и росте биткоина в 25% в год, к 2049 году 1 млн биткоинов (при средней цене 100 тыс. долларов) могут стоить 21 трлн, покрывая до 18% прогнозируемого долга. Эту стратегию подтвердил представитель Белого дома Бо Хайнс, заявивший о планах США накапливать биткоины и не продавать их.
Наконец, еще один важный фактор американского подхода — ослабление геополитических противников. В Вашингтоне считают, что Россия, Иран и Северная Корея используют криптовалюты для обхода санкций. Поскольку полный контроль за сетью биткоина технически затруднен, стратегия может состоять в массированной скупке биткоинов, что не только пополняет резерв, но и, по мнению США, ограничивает возможности оппонентов и поддерживает рост цены актива, увеличивая стоимость собственного запаса.
Таким образом, у США есть свои, достаточно логичные, основания для создания крипторезерва, даже если учесть возможное влияние лоббистов. Однако это не означает, что другие страны должны следовать этому примеру. Каждое государство находится в уникальном международном и экономическом контексте. Многие развитые страны (члены ЕС, Швейцария) не планируют создавать национальные крипторезервы, тогда как некоторые (например, Бутан) видят в этом возможность для получения дохода.
Стоит ли России создавать криптовалютный резерв? Подобные предложения уже поступали, например, от депутата Антона Ткачева, который указывал на роль криптовалют в международной торговле в условиях санкций и их потенциальную доходность. Однако против крипторезервов говорят их низкая ликвидность, высокая волатильность, правовая неопределенность, технические риски и киберугрозы. Эти контраргументы выглядят более весомыми. Именно поэтому Минфин России не рассматривает криптовалюту как актив для Фонда национального благосостояния. Центральный банк РФ также занимает скептическую позицию. Как отметил и.о. директора департамента финансовых технологий ЦБ Станислав Короп, вопрос создания национального крипторезерва в России не стоит на повестке, в том числе из-за отсутствия значительных объемов конфискованных криптоактивов и нецелесообразности их покупки в данный момент. Учитывая единое мнение ключевых финансовых регуляторов, можно согласиться с выводом о нецелесообразности создания крипторезерва в России сейчас.









