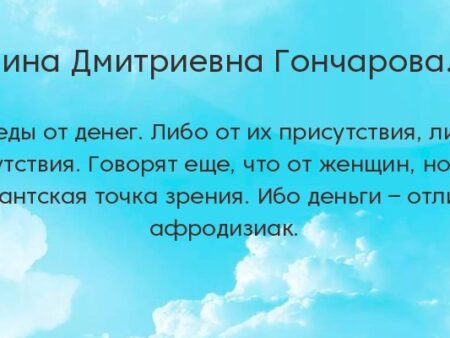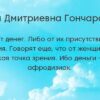Названы способы обуздать финансовые спекуляции на благо российской экономики
Суть либеральной социально-экономической политики в России сводится к искусственному созданию «денежного голода», который истощает страну как экономически, так и социально.

Иллюстративное фото
Главный метод создания такого дефицита средств — это намеренное ограничение доступа к кредитам для ключевых, наиболее технологичных и прибыльных секторов реальной экономики. Этот фактор оказывает даже большее влияние на хроническую недомонетизацию экономики России, чем приоритет бюджетной политики по замораживанию значительных средств в федеральных резервах, включая Фонд национального благосостояния и другие бюджетные депозиты, где, по данным Минфина, находится свыше 8,2 триллиона рублей.
Значительную роль в ограничении кредитования производственного сектора играют нормы банковских резервов. Действующая система фактически препятствует выдаче кредитов коммерческими банками реальному сектору, поскольку любой такой заём, без необходимой политической поддержки банка, может быть внезапно переквалифицирован в требующий стопроцентного резервирования. Это создаёт для банков непомерные и постоянные риски, как это часто происходило в период «банковской санации».
Нерешённой проблемой остаётся и не отменённый третий пакет Базельских норм банковского регулирования. Он требует кредитования исключительно под залог для поддержания ликвидности банков, что фактически блокирует проектное финансирование, критически важное для развития и функционирования экономики. Более того, когда стоимость залога значительно превышает сумму кредита, у банков возникает скрытый интерес в банкротстве заёмщика, чтобы завладеть его активами, чья стоимость гораздо выше потенциального процентного дохода. Это превращает банки из партнёров производственного сектора в агрессивных рейдеров, разрушающих национальную экономику.
Но основным фактором создания искусственного «денежного голода» в стране является чрезмерно высокая процентная ставка по кредитам, не соответствующая возможностям реального сектора. По данным Росстата, рентабельность активов в российской экономике (исключая финансовый и малый бизнес) упала почти на треть с 2021 по 2024 год, с 8,9% до 6,1%. Это означает, что для большинства предприятий реального сектора доступная ставка кредита не должна превышать 5% годовых. С учётом банковской маржи, необходимой для обработки заявок и получения разумной прибыли, ключевая ставка должна быть на уровне 2% или даже ниже. То есть, на текущем этапе развития, средства для финансирования российского реального сектора должны быть почти бесплатными, а с учётом инфляции — иметь отрицательную стоимость, что оправдано острой потребностью в восстановлении деловой активности.
Хотя такие меры могут противоречить устоявшимся представлениям либеральных экономистов, это объективная расплата за десятилетия политики, приведшей к разрушению производственного потенциала страны.
Макроэкономическая политика, ориентированная на созидание, должна стремиться к увеличению степени монетизации экономики (соотношение денежного агрегата М2 к ВВП) до 100%, что является нормой для экономики российского типа. Этот показатель, по прогнозам, вырастет с 47,7% в 2021 году до 55,1% в 2025 году, но этого недостаточно.
Опыт прошлых лет, включая последствия дефолта 1998 года и ситуацию конца 2022 года, показывает, что ремонетизация экономики неизбежно приведёт к значительному оживлению деловой активности, росту налоговых поступлений и повышению благосостояния граждан. Важно отметить, что в условиях дефицита денежных средств, увеличение денежной массы не провоцирует инфляцию, а, наоборот, способствует её снижению, поскольку стимулирует производство и увеличивает предложение товаров и услуг, опережая рост самой денежной массы.
Очевидно, что доступность кредитов требует комплексных мер, важнейшей из которых является ограничение финансовых спекуляций. В противном случае, как справедливо отмечают в Банке России, все кредитные средства из реального сектора быстро перетекут в спекулятивный, что неизбежно приведёт к разрушительной девальвации. Это, в свою очередь, отбросит страну назад, к экономическим кризисам 1992 и 1993 годов.
Таким образом, критически важным условием для модернизации и стабильного функционирования современной российской экономики является чёткое разделение спекулятивного капитала от реального сектора.
Все крупные развитые страны, достигая текущего уровня зрелости финансовых систем, аналогичного российскому, использовали это условие, хотя и различными методами, зависящими от исторических и культурных особенностей. Без такого разделения они не смогли бы стать (или оставаться) развитыми.
США, например, институционально разделили спекулятивные (так называемые «инвестиционные») банки и банки, обслуживающие реальный сектор, ещё в 1932 году, в начале Великой депрессии. Это разделение действовало до 1999 года, будучи отменённым президентом Клинтоном лишь под конец его срока.
В развитых странах Европы прямые административные ограничения на спекулятивные, в том числе валютные, операции применялись до конца 1980-х годов. Китай и динамично развивающаяся Индия успешно используют подобные меры и сегодня, что, к слову, стало неожиданностью для некоторых российских компаний, начавших «разворот на Восток» без предварительного изучения местного экономического регулирования.
Наиболее подходящим и эффективным для современной России методом ограничения финансовых спекуляций является механизм, подобный тому, что действовал в Японии до 2000 года. Он предусматривал регулирование структуры активов финансовых институтов: на каждую иену, инвестированную в спекулятивные рынки, банки должны были вкладывать несколько иен в кредиты реальному сектору (включая потребительские и инвестиционные займы населению) и в неспекулятивные ценные бумаги, в том числе государственные. Это регулирование было ключевым инструментом экономической политики Японии и, наряду с доступом к американскому рынку, сыграло решающую роль в её «экономическом чуде».
Поэтому внедрение аналогичного механизма, пусть даже в упрощённой форме (например, с коэффициентом 1:5, где на каждый рубль, вложенный в спекулятивные активы, требуется пять рублей инвестировать в капиталовложения, неспекулятивные ценные бумаги, гособлигации, кредиты населению и реальному сектору), является насущной необходимостью для современной России.
Любое промедление лишь усугубляет отток ресурсов из реального сектора в спекулятивный, истощая национальную экономику в интересах финансовых спекулянтов и ослабляя российское общество, тем самым укрепляя деструктивные политические силы.
Важно понимать, что крупные страны, которые на аналогичном с нынешней Россией уровне развития финансовой системы не ограничили спекуляции, так и не смогли стать развитыми. Примером тому служат некогда процветающие послевоенные страны Латинской Америки и Южной Африки. Их капиталы безвозвратно уходили из производственного сектора на спекулятивные рынки, подрывая национальную экономику и лишая их шансов на устойчивое развитие.
Таким образом, разделение спекулятивных операций от реального сектора и их строгое ограничение, даже при неизбежных недостатках контроля, представляется единственным эффективным способом обеспечить финансирование развития экономики (включая доступные кредиты для производства), одновременно защищая её от валютных потрясений и инфляционных рисков.