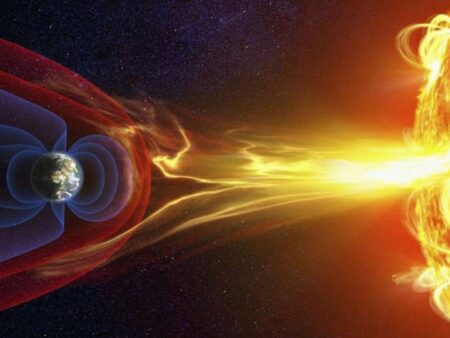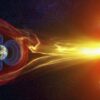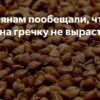Продолжительные компенсации: история и текущая практика возврата сбережений СССР
Вопрос о денежных компенсациях за советские вклады, утраченные во время экономических реформ 1990-х годов, ежегодно поднимается при обсуждении проекта федерального бюджета. Из года в год фиксируются государственные обязательства по этим сбережениям, но полное их погашение остаётся неосуществимым из-за отсутствия необходимых средств. Тем не менее, вкладчикам выплачиваются частичные компенсации, и этот подход сохраняется в проекте бюджета на ближайшие три года.

Наследие советской эпохи и нерешенный вопрос о вкладах
В течение следующих трёх лет на компенсации по советским сбережениям из государственного бюджета планируется выделить 5 миллиардов рублей. Проект госбюджета предусматривает следующее распределение этих выплат:
- В 2026 году будет направлено около 1,66 млрд рублей.
- В 2027 году — примерно 1,6 млрд рублей.
- В 2028 году — порядка 1,56 млрд рублей.
Примечательно, что изначально планировалось выделить меньшие суммы: 1,458 млрд рублей в 2025 году, 1,285 млрд в 2026-м и 1,246 млрд в 2027-м. Однако впоследствии общий объём компенсаций был увеличен примерно на четверть.
Компенсации доступны для следующих четырёх категорий советских сбережений:
- Вклады, размещённые в главном банке СССР;
- Накопления по государственному страхованию;
- Средства по казначейским обязательствам;
- Сбережения по сберсертификатам.
Право на получение компенсации имеют граждане, чьи средства находились на счетах главного банка или трудовых сберкасс СССР по состоянию на 20 июня 1991 года — дату прекращения работы Сбербанка СССР. В 2025 году выплаты предусмотрены для вкладчиков, родившихся до 1991 года включительно, а также для их наследников или лиц, оплативших похороны таких вкладчиков.
Размер компенсации зависит от нескольких факторов. Главный из них — год рождения вкладчика. Лицам, родившимся до 1946 года, полагается сумма, утроенная от остатка на счёте, а тем, кто родился с 1946 по 1991 год, — удвоенная. Если ранее уже были получены какие-либо компенсации, их сумма будет вычтена из окончательной выплаты.
Во-вторых, важную роль играет дата закрытия вклада. Так, для депозитов, действовавших или закрытых в период с 1996 по 2024 год, применяется максимальный коэффициент 1. Для вкладов, действовавших в 1992–1994 годах, коэффициент составляет 0,9, и так далее. Если вклад был закрыт, например, в 1992 году, применяется коэффициент 0,6. Выплаты осуществляет основной государственный банк страны, на сайте которого доступен калькулятор для предварительного расчёта суммы компенсации.
Чтобы проиллюстрировать систему компенсаций, рассмотрим примеры. Наследник умершего ветерана, имевшего вклад в 600 советских рублей, может получить в 2025 году 1800 современных российских рублей, предоставив необходимые документы. В другом случае, женщина 1969 года рождения, закрывшая вклад в 2000 советских рублей в 1995 году, получит 3600 современных рублей в 2025 году с учётом установленных коэффициентов.
Очевидно, что покупательная способность советских и современных российских рублей кардинально отличается. Например, за 5000 советских рублей можно было приобрести новый автомобиль, тогда как аналогичная сумма в современных рублях едва покроет недельный запас продуктов. Тем не менее, иного законного механизма компенсаций или достаточных средств для справедливых выплат пострадавшим от рыночных реформ не существует. С учётом всех девальваций и деноминаций за последние 35 лет, полная сумма справедливых компенсаций оценивается в десятки триллионов современных рублей.
Нереализованные надежды и «горькая правда»
Возникает закономерный вопрос: почему правительство, несмотря на экономические трудности, санкции и дефицит бюджета, продолжает заниматься вопросом советских вкладов и выплачивать по ним компенсации? За разъяснениями «МК» обратился к Павлу Медведеву, опытному финансисту, бывшему депутату Госдумы, доктору экономических наук и финансовому омбудсмену Ассоциации российских банков.
— Каковы исторические корни текущей ситуации с компенсациями по советским вкладам?
— Чтобы понять это, необходимо обратиться к истории советских сбережений. Вклады в сберкассах СССР представляли собой государственный долг. Граждане размещали там деньги не из избытка средств, а потому, что в условиях постоянного дефицита товаров было практически невозможно приобрести желаемое или необходимое. Как говорили в то время, «деньги было не на что отоварить». В результате люди накапливали сбережения, которые в иных условиях были бы потрачены на бытовую технику, мебель, автомобили или жильё. Правительство, в свою очередь, использовало эти «длинные деньги» для финансирования своих проектов, не ориентированных на потребительский рынок. Уже к 1970-м годам многие экономисты осознавали, что объём накопленных сбережений значительно превышает годовой торговый оборот, и государство не сможет полностью выполнить свои обязательства. Например, экономист Игорь Бирман ещё тогда предвидел, что при первой же возможности власти освободятся от этих обязательств, либо обесценив вклады через инфляцию, либо конфисковав, либо заморозив их. Именно этот сценарий реализовался в начале 1990-х годов.
Тем не менее, в 1996 году, несмотря на сложившуюся ситуацию, тогдашний премьер-министр Виктор Черномырдин инициировал выплату компенсаций по советским вкладам гражданам в возрасте от восьмидесяти лет и старше. Выплаты осуществлялись в полном объёме, если сумма вклада не превышала 1000 рублей (после индексации 1996 года в 1000 раз, это соответствовало 1 миллиону), или же в размере 1000 рублей, если сумма была выше. Это решение получило названия «выплата первого миллиона» или «первой тысячи».
— Как вы оцениваете это решение Черномырдина с позиции сегодняшнего дня?
— Решение Черномырдина было чрезвычайно смелым поступком, масштабы которого трудно оценить в наше время, когда дефицит бюджета в 2-3% ВВП вызывает серьёзные опасения. В тот период государственный бюджет представлял собой огромную финансовую «дыру». С точки зрения строгой финансовой логики, Черномырдин, увеличивая бюджетный дефицит, совершил нечто «преступное», но одновременно, возможно, это был один из самых благородных поступков в его жизни.
Интересно, что общественное мнение не вполне корректно связывало это решение главы правительства с моей скромной персоной. Черномырдин находился далеко, а я в то время раз в неделю проводил депутатский приём. Как только начались выплаты, на каждый приём приходили (они сами говорили, что «приползали») десятки очень пожилых женщин, часто поддерживаемых молодыми родственниками, и все они, словно сговорившись, произносили одну и ту же фразу: «Спасибо, хоть поела досыта».
Известно, что после 1996 года выплаты продолжались ежегодно, но первоначальная благодарность получателей постепенно сменялась возмущением и протестом. Это легко объяснимо. В начале 1960-х годов, когда появились первые жилищные кооперативы, доступные не только элите, двухкомнатная квартира стоила 2000 рублей, из которых 1000 нужно было внести сразу, а оставшуюся сумму выплачивать в рассрочку в течение десяти лет. Поэтому в сознании советских граждан 1000 рублей ассоциировалась с приобретением жилья, а не с возможностью сытно питаться одну-две недели. Люди часто упускали из виду, что для вступления в кооператив требовалось сначала доказать начальству нужду в улучшении жилищных условий и затем выстоять многолетнюю очередь.
Таким образом, когда в начале 1990-х годов введение рыночных цен спровоцировало гиперинфляцию, и граждане поняли, что их сбережения обесценились, одним из первоочередных требований к властям стала компенсация утраченных вкладов. Верховный Совет РСФСР оперативно отреагировал на настроения избирателей, приняв популистский рамочный закон, который обещал погасить советские долги, но не определял источники этих выплат. Важно понимать, что «источник» здесь означает не просто денежные средства. Люди копят деньги для покупки товаров: квартир, автомобилей, мебели. Следовательно, для компенсации советских долгов необходимо было бы найти дополнительные объёмы этих товаров, превосходящие текущее рыночное предложение, поскольку существующее предложение соответствует нынешним доходам и накоплениям (и то не полностью, учитывая высокую инфляцию).
— Учитывая, что стоимость полной и справедливой компенсации оценивается в десятки триллионов современных рублей — сумму, которой у правительства нет и, вероятно, не будет, — не следует ли властям откровенно заявить о невозможности полноценного возврата советских вкладов?
— Этот вопрос следует адресовать правительству. При этом им нельзя не посочувствовать: оно невольно приняло на себя ответственность за популистские обещания депутатов давно распущенного Верховного Совета. С течением времени острота проблемы естественным образом снижается, и для молодого поколения она становится всё менее актуальной и понятной. Большинство прямых вкладчиков уже ушли из жизни, а их потомки вряд ли возлагают серьёзные надежды на компенсацию по «бабушкиной сберкнижке».
— Можно ли утверждать, что советские вкладчики были фактически «ограблены»?
— Да, фактически несколько поколений советских граждан действительно пострадали от «ограбления». Однако вопрос в том, кто именно выступил в роли «грабителя». По моему мнению, это не Егор Гайдар, как часто считают сегодня, а неэффективная советская экономика, которую реформаторы того времени пытались адаптировать к мировым рыночным условиям. Лично для меня символом этой трагедии стали слова благодарности очень пожилых женщин, которым благодаря смелости Черномырдина удалось «хоть поесть досыта».