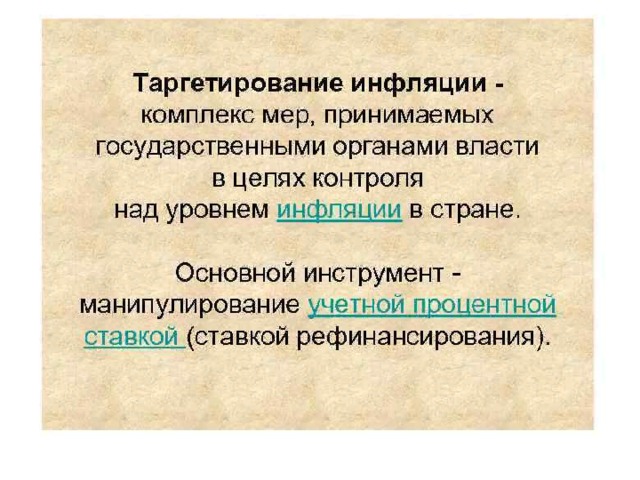
Оптимальная денежно-кредитная политика: поиск баланса
Еще в конце XIX века шведский экономист Кнут Викселль предположил, что Центральный банк способен управлять уровнем инфляции, будь то избыточно высокий или чрезмерно низкий. Он предложил механизм регулирования: повышать ключевую (учетную) ставку при ускоренном росте потребительских цен и снижать ее при их значительном падении.
Многие выдающиеся экономисты, включая Джона Мейнарда Кейнса и Джона Хикса, считали, что процентная ставка играет ключевую роль в балансировании сбережений и инвестиций в экономике. При высоких ставках более привлекательным становится накопление средств, тогда как низкие ставки стимулируют инвестиционную активность. Тем не менее, практическое применение этой концепции управления процентными ставками центральными банками началось лишь к концу XX века.
Ранее финансовые регуляторы применяли лишь ограниченный набор инструментов денежно-кредитной политики. Например, повышение учетных ставок могло использоваться для сдерживания кредитования высокорисковых проектов. В первой половине XX века преодоление экономических кризисов, таких как Великая депрессия в США или послевоенный экономический спад в Европе, в основном ложилось на плечи правительств.

Фото: Алексей Меринов
В 1970-х годах центральные банки начали принимать более существенное участие в регулировании национальных экономик. Руководители крупнейших мировых Центробанков стали ежегодно собираться на симпозиумы для обсуждения глобальных экономических тенденций и своей роли в их регулировании. С 1981 года наиболее престижный из таких форумов проводится в Джексон-Хоуле, штат Вайоминг (США). Хотя приверженцы конспирологических теорий называют его собранием «глубинного государства» или даже «мирового правительства», очевидно, что главы мировых Центробанков посещают этот форум, чтобы ознакомиться с опытом и стратегиями Федеральной резервной системы США.
Согласно Forbes, в 1980-х годах Федеральная резервная система (ФРС) лишь ограниченно применяла процентные ставки для регулирования экономики. В начале десятилетия рост мировых цен на нефть спровоцировал резкое ускорение инфляции в США. В ответ ФРС, стремясь остановить инфляцию, подняла процентные ставки до беспрецедентного уровня в 20%. Это привело к рецессии в США, и многие компании и банки оказались на пороге краха из-за чрезмерно высоких ставок. Несмотря на то что жесткая монетарная политика помогла сдержать инфляцию, ФРС под руководством Пола Волкера столкнулась с острой критикой со стороны администрации президента Рональда Рейгана, которая настаивала на снижении ставок для стимуляции экономического роста.
Современная концепция денежно-кредитной политики начала формироваться в начале 1990-х годов, когда Резервный банк Новой Зеландии, а затем и Банк Канады, установили целевой уровень инфляции в 2% годовых, признанный Международным валютным фондом оптимальным для развитых экономик. Такой темп роста цен считается благоприятным для развития производства и предотвращает обнищание населения. Для развивающихся стран МВФ рекомендует норму инфляции в 4% годовых. Опыт таргетирования инфляции успешно зарекомендовал себя в Новой Зеландии, Канаде, а затем и в Великобритании, где 2%-ный рост цен удовлетворял как потребителей, так и производителей. Федеральная резервная система США также следует этому курсу; с 1990-х годов ее средняя ключевая ставка составляет 5,4%, что исключает необходимость повышения ее до чрезмерно высоких уровней, наблюдавшихся в начале 1980-х.
Во время мирового финансового кризиса 2007–2009 годов, вызванного крахом крупных банков и ипотечных агентств в США, ФРС реагировала снижением ставки по федеральным фондам до 0–0,25%. Была запущена программа количественного смягчения (QE), в рамках которой регулятор приобретал государственные облигации и долговые обязательства у коммерческих банков и проблемных ипотечных агентств. Целью было насытить экономику ликвидностью и тем самым стимулировать потребление и деловую активность. В результате, после падения ВВП США на 3% в 2009 году, уже в 2010 году был зафиксирован рост на 2,7%. В период с 2014 по 2023 год ФРС регулярно корректировала монетарные условия, чередуя смягчение и ужесточение, для поддержания экономического роста и контроля над инфляцией.
С 1990-х годов развивающиеся страны по-разному и не всегда оперативно адаптировались к новым подходам центральных банков развитых стран в области инфляционного таргетирования. Например, во время азиатского финансового кризиса 1997–1998 годов только Малайзия решилась на резкое повышение процентных ставок для сдерживания инфляции. Другие затронутые кризисом страны региона в основном полагались на кредиты МВФ и стабилизировали цены через валютные интервенции. Так, в Южной Корее для поддержки национальной валюты (вона) было израсходовано столько золотовалютных резервов, что корпорации призывали сотрудников сдавать государству золотые украшения. Народный банк Китая долгое время избегал таргетирования инфляции, но когда страна, ранее страдавшая от дефляции, столкнулась с резким ростом цен после пандемии, китайский регулятор начал применять эту практику, временно повысив учетные ставки даже для надежных заемщиков.
В Турции западные методы борьбы с инфляцией часто подвергались жесткой критике со стороны президента Реджепа Тайипа Эрдогана. В 2024 году инфляция в стране превысила 60%, выводя ее в число мировых лидеров по этому показателю. Однако в 2025 году турецкий регулятор приступил к снижению процентных ставок, установив цель по инфляции в 24% годовых, что фактически означает переход к таргетированию инфляции.
Банк России поставил себе цель по инфляции на уровне 4% в год. Однако методы достижения этой цели часто подвергаются критике, поскольку сдерживание роста потребительских цен достигается за счет исторически высоких процентных ставок. Например, осенью 2024 года ЦБ РФ поднял ключевую ставку до 21% годовых, начав ее снижение только с июня 2025 года. Оппоненты текущей политики Банка России часто напоминают, что в 2000-х годах инфляция была значительно выше (в сравнении с сегодняшними 9% годовых), но при этом экономический рост в стране составлял в среднем не менее 8%. Это создает впечатление, что тогда власти не пытались жестко контролировать цены, и экономика развивалась намного быстрее, чем в последние годы. Важно отметить, что ключевая ставка (в ее нынешнем понимании, в отличие от прежней ставки рефинансирования, не подразумевавшей таргетирование инфляции) была введена в России с 2013 года, когда Банк России возглавила Эльвира Набиуллина. Поскольку до этого времени в РФ отсутствовала целенаправленная денежно-кредитная политика, стоит вспомнить последствия экономического кризиса конца 2000-х. В 2009 году российский ВВП сократился на 9%, что стало максимальным падением с начала века. Это было обусловлено отсутствием системного стимулирования экономического роста. Выход из того кризиса был достигнут исключительно благодаря чрезвычайно высоким ценам на нефть и газ. Обрабатывающая промышленность и многие другие секторы российской экономики хронически страдали от недостатка инвестиций, поэтому глобальные потрясения (тогда без каких-либо санкций) привели к их быстрому краху. Эта ситуация стала четким сигналом: экономику нельзя оставлять без государственного регулирования, ей необходима поддержка, включая доступное кредитование.
По нашему мнению, идеальная денежно-кредитная политика для России, как и для любой другой страны, должна воплощать принцип, выраженный Александром Суворовым: «Деньгам по-пустому лежать не надлежит». Это означает, что оптимальная процентная ставка должна, с одной стороны, создавать условия для получения прибыли теми, кто инвестирует в собственный бизнес, а с другой – обеспечивать достойный доход вкладчикам, предпочитающим хранить средства на банковских депозитах или в облигациях с привлекательным процентом. Иными словами, ставка не должна быть ни искусственно завышенной, ни чрезмерно низкой. Именно такой равновесный уровень, способствующий сбалансированному росту производства, занятости и контролируемой инфляции, обсуждался ведущими мировыми экономистами. Следовательно, таргетирование инфляции, безусловно, имеет экономический смысл, особенно когда существует угроза ее неконтролируемого роста. Тем не менее, главной целью денежно-кредитной политики должно быть благосостояние граждан. Мы считаем, что для Банка России оптимальный диапазон ключевой ставки мог бы составлять 9–12% годовых, что указывает на наличие потенциала для ее дальнейшего снижения.











