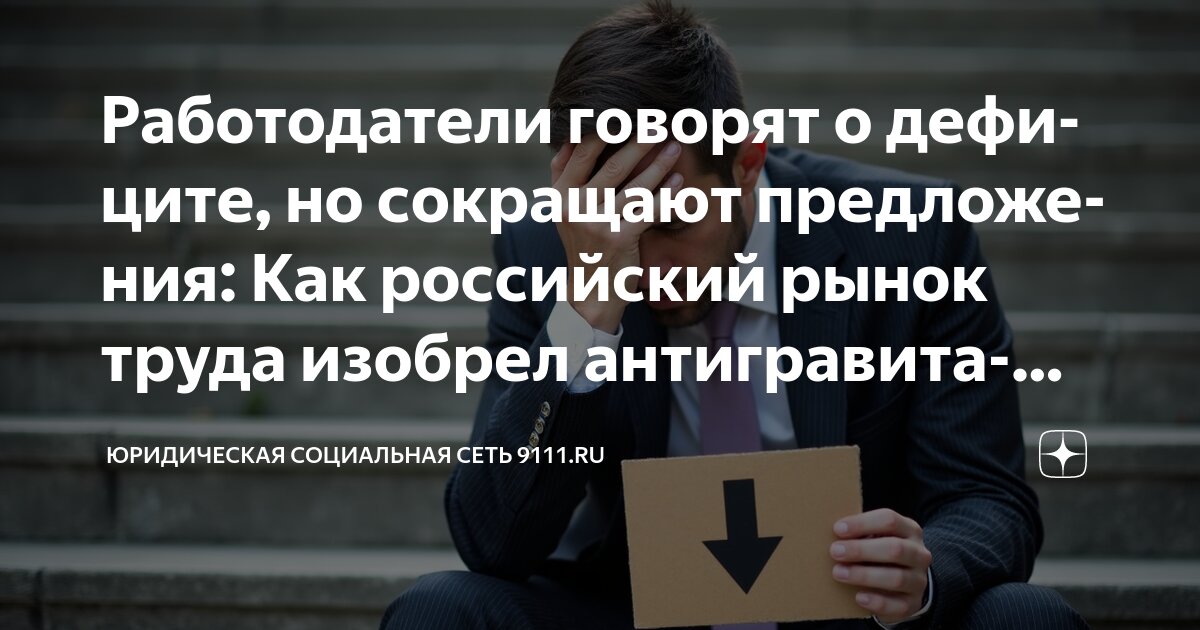
Почему компании сокращают набор персонала, хотя нуждаются в сотрудниках?
Несмотря на заявления о нехватке персонала, российские компании снижают число открытых вакансий на фоне экономической неопределенности. Этот парадокс — когда потребность в кадрах высока, а предложений о работе становится меньше — особенно заметен в рабочих специальностях и среди молодежи. Работодатели ищут готовых специалистов, соискатели ожидают высокой оплаты и перспектив, но рынок сжимается. Что стоит за этой тенденцией: экономические сложности, уход найма в тень или изменение подхода к занятости?

Фото: Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press
Российский рынок труда находится в состоянии необычного равновесия: вакансий меньше, а потребность в работниках — больше. По данным аналитиков и Росстата, за первую половину 2025 года количество предложений о работе в стране уменьшилось почти на 15%, особенно в сервисных отраслях и промышленности.
В то же время многие компании испытывают трудности с поиском персонала даже на рядовые позиции. На первый взгляд, ситуация выглядит как легкая форма экономического кризиса, но на самом деле она отражает более глубокие изменения — сочетание застоя и скрытых преобразований в сфере занятости.
Раиса Донская, заведующая кафедрой «Владельческое управление» МНИИПУ, считает, что несоответствие запросов бизнеса и ожиданий соискателей стало устойчивой проблемой. «Работодатель хочет найти опытного профессионала за разумные деньги, а работник каждый новый шаг воспринимает как повод требовать более высокую зарплату. На этом пересечении интересов возникает „затор“». Если раньше частая смена мест работы считалась недостатком, то сейчас это почти норма для успешной карьеры. Однако компании уже научились видеть в резюме частые переходы как признак скорее стремления к краткосрочным контрактам, а не адаптивности, что не всегда выгодно бизнесу.
На рынке формируется новая парадигма — это не рынок предложений, а рынок ожиданий. Компании проводят «оптимизацию», снижая открытый набор и все чаще прибегая к аутсорсингу, проектной работе или переманиванию специалистов. Публичные объявления о вакансиях становятся реже, если речь не идет о массовых позициях вроде продавцов или операторов колл-центров. Таким образом, официальная статистика показывает лишь часть картины: фактический спрос на сотрудников смещается в менее прозрачные каналы — либо в неформальные договоренности, либо в закрытые процессы подбора в крупных организациях.
Таким образом, рынок сам создал этот дисбаланс: предложений о работе стало меньше, потому что значительная часть найма происходит не через традиционные отклики на вакансии, а за счет неформальных связей, рекомендаций и конкурентной борьбы за существующих сотрудников.
Донская отмечает, что дефицит кадров наиболее ощутим в рабочих специальностях. Технологический прогресс последних лет выявил серьезную нехватку квалифицированных рабочих: на фоне развития ИИ и автоматизации растет потребность в специалистах по обслуживанию оборудования, сварщиках, наладчиках — тех, кого в нужном количестве не готовили в последние два десятилетия.
Одновременно возрос спрос на управленческие навыки, особенно в сочетании с аналитическими способностями, гибкими навыками (soft skills) и умением проводить организационные изменения. По словам Донской, именно здесь появляются профессионалы с учеными степенями уровня DBA — управленцы нового типа, чей путь лежал от практического опыта к глубокому теоретическому осмыслению, а не наоборот.
Что касается уровня оплаты труда, то рост зарплат носит избирательный характер. В сферах IT, управления проектами, логистики и инфраструктуры доходы выросли примерно на 8–12% за год. Однако массового повышения зарплат ожидать не стоит: сокращение расходов на персонал остается одним из немногих доступных бизнесу инструментов в условиях ограниченного спроса и высокой инфляции. Замораживание зарплат стало реальностью для многих секторов, особенно в регионах с низкой инвестиционной привлекательностью.
Ситуация в регионах также неоднородна: в крупных городах наблюдается конкуренция за специалистов, а в провинции — конкуренция за рабочие места. В моногородах ситуация напоминает 1990-е годы: доминирование одного крупного предприятия, ограниченный выбор вакансий и отток молодежи. В то же время в регионах, активно развивающих индустриальные и технологические парки (например, Татарстан или Тюменская область), спрос на кадры выше среднероссийского. География занятости становится все более раздробленной: принадлежность региона к определенной отрасли все чаще определяет не только уровень дохода, но и саму возможность найти работу.
Особо уязвимое положение занимают молодые специалисты. «Диплом вуза сегодня — это не гарантия трудоустройства, а скорее начало бесконечного процесса обучения», — подчеркивает Донская. Возвращается практика целевого обучения, когда крупные компании сотрудничают с вузами, готовя студентов под свои конкретные нужды. Это вынужденный шаг, так как компании не могут ждать, пока рынок самостоятельно подготовит нужных им профессионалов.
Сегодня более важны не просто дипломы, а подтвержденные компетенции (скиллы) — навыки общения, технические знания, управленческие способности. Молодым специалистам все чаще предлагают постепенный путь: от стажировки к участию в проектах и далее к карьерному росту внутри компании. Но без готовности учиться и адаптироваться к изменениям их шансы на успех уменьшаются.
Таким образом, российский рынок труда входит в период, когда традиционные экономические законы спроса и предложения действуют не прямолинейно. Вакансий становится меньше, но требования к кандидатам растут.











