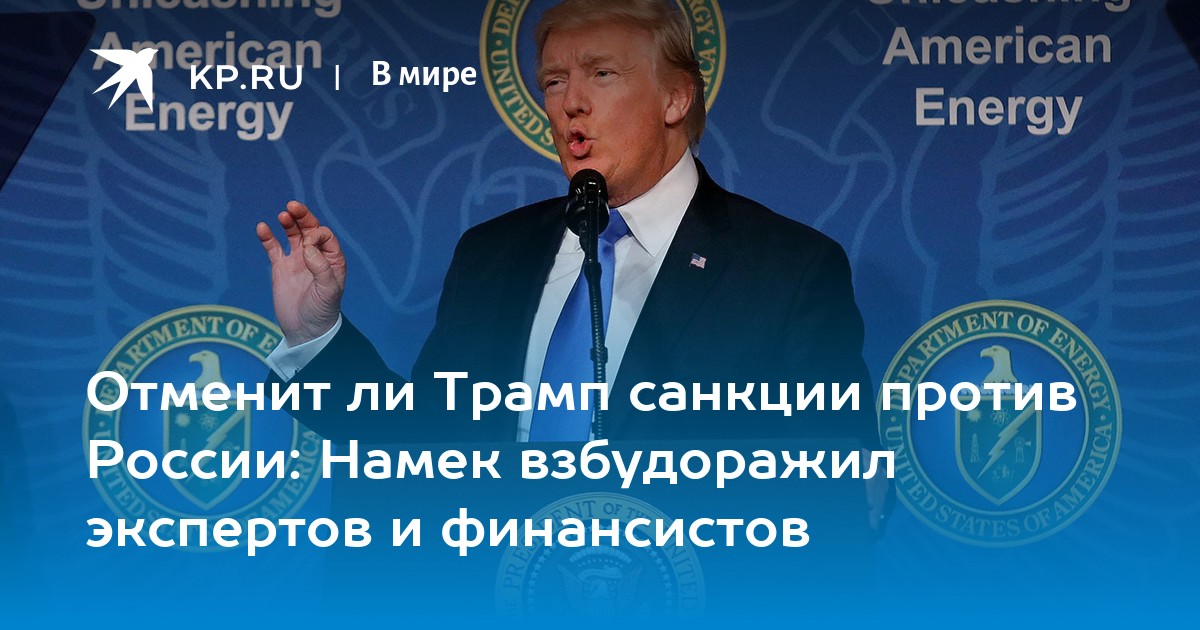
Хотя США временно отсрочили введение новых санкций, дамоклов меч потенциальных экономических ограничений продолжает висеть над Россией, усугубляя существующие внутренние проблемы.
Срок ультиматума, выдвинутого президентом США Дональдом Трампом касательно новых пошлин и вторичных санкций против России, истёк 8 августа. Отсутствие немедленных мер, вероятно, связано с ожиданием встречи лидеров двух стран 15 августа. Однако потенциальные американские санкции остаются серьёзной угрозой для российской экономики. Для оценки масштаба этих угроз, степени адаптации российской экономики к внешнему давлению и возможных путей смягчения последствий, были опрошены эксперты: Александр Разуваев (член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров), Алексей Ведев (доктор экономических наук) и Никита Масленников (ведущий эксперт Центра политических технологий).

Элемент давления
Никита Масленников: По мнению Никиты Масленникова, текущая ситуация указывает на то, что угроза санкций является скорее инструментом давления, чем немедленной реализацией. Президент США достиг своей цели, инициировав прямые переговоры через своего спецпредставителя. Тем не менее, это не повод расслабляться, поскольку возможность возобновления санкционного давления остаётся высокой, требуя постоянного мониторинга.
Дональд Трамп имел веские экономические причины воздержаться от немедленного введения суровых мер. Запланированные на 12 августа торговые переговоры с Китаем могли быть сорваны введением 100-процентных пошлин на китайский импорт, что нарушило бы текущее, хоть и хрупкое, перемирие между США и КНР.
Кроме того, 7 августа вступили в силу 20-процентные пошлины на ряд индийских товаров, с потенциальным ростом до 25%, что в общей сложности составило бы 50%. Предоставленная отсрочка примерно на три недели до запланированных на 25 августа переговоров между Индией и США, по-видимому, призвана урегулировать торговые противоречия. Примечательно, что новые тарифы не затронули значительную часть индийского экспорта, такого как электроника и фармацевтика, ориентированные на американский рынок. В то же время, стремление США увеличить экспорт своей сельскохозяйственной продукции в Индию сталкивается с трудностями, поскольку этот вопрос затрагивает миллионы занятых в индийском аграрном секторе.
Относительно России, ещё до наступления августовского срока появились признаки возможной отсрочки санкций, что требует дальнейшей осторожности. Российская экономика уже частично адаптировалась к санкционному давлению, избежав прогнозируемого некоторыми коллапса. Однако санкции усугубили существующие хронические проблемы, такие как недостаток инвестиций в основной капитал и технологическое отставание.
Александр Разуваев: Александр Разуваев отмечает, что экономические связи России с США в большей степени касаются инвестиций, нежели внешней торговли. Торговые объёмы между странами всегда были скромными, в отличие от партнёрства с Европой, Азией и Ближним Востоком. Исторически инвестиции из США играли значительную роль, когда западные фонды владели существенной долей российских акций. Хотя эта зависимость уменьшилась, приток иностранного капитала по-прежнему критически важен.
Эксперт предполагает, что стороны будут стремиться к компромиссу, возможно, заключив рамочное соглашение до конца текущего года. Это потенциально оживит фондовый рынок и укрепит потребительские настроения, а также поможет избежать резких колебаний на валютном рынке.
Одним из ключевых требований Вашингтона является возобновление расчётов за российский экспорт в долларах. Несмотря на спорность этого вопроса, вероятно, будет найдено взаимоприемлемое решение.
Алексей Ведев: Доктор экономических наук Алексей Ведев также считает санкции скорее элементом давления. Прямые ограничения менее болезненны из-за низких объёмов торговли с США. Наибольшую чувствительность вызывают вторичные санкции, особенно касающиеся финансовых операций. В то время как логистика экспорта и импорта была перестроена, вопросы расчётов остаются более сложными.
По мнению Ведева, основной преградой для экономического роста в настоящее время являются не столько санкции, сколько собственная жёсткая денежно-кредитная политика России, влияние которой на ВВП может превосходить последствия внешнего давления.
Прямой показатель проблем
Никита Масленников: Масленников отмечает очевидное: за первые семь месяцев текущего года импорт сократился более чем на 6%, в то время как экспорт увеличился всего на 1%. Бюджетный дефицит вырос с 1,7% до 2,2% ВВП. Доходы от нефтегазового сектора за этот период составили примерно 5,25 трлн рублей, что на 18% ниже показателя предыдущего года, а в июле падение достигло 27% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.
Дисконт на российскую нефть в среднем сохраняется в определённом коридоре, однако риски не исчезают. За последние месяцы объёмы морских поставок нефти в Китай уменьшились приблизительно на 5%, при этом наблюдался небольшой рост поставок в Индию. Для Китая морские ограничения менее критичны, так как большая часть нефти поступает по трубопроводам. Индия сталкивается с более высокими рисками, но ситуация неоднозначна: одни НПЗ прекращают закупки, другие продолжают их, и танкеры по-прежнему следуют маршрутами.
По мнению эксперта, введение США 100-процентных тарифов нанесло бы ущерб и их собственной экономике, что делает немедленную реализацию таких мер маловероятной. В случае серьёзных ограничений в торговле с Китаем, Россия могла бы активизировать переговоры о новых трубопроводных маршрутах. В отношениях с Индией ситуация сложнее: Индия может использовать свою позицию для получения уступок по другим вопросам, например, по снижению пошлин на высокотехнологичную продукцию.
Риск резкого коллапса нефтяного экспорта оценивается как низкий, однако устойчивое снижение объёмов внешней торговли уже наблюдается. Согласно недавним данным Центробанка, в июне суммарный финансовый поток экспортных отраслей был близок к нулю, а в июле он сократился на 8%, достигая 9–10% в некоторых секторах. Это служит прямым индикатором существующих трудностей.
Александр Разуваев: Разуваев отмечает, что часть экспортных данных в настоящее время засекречена. Ранее Россия входила в число ведущих мировых поставщиков по ряду позиций, но ситуация изменилась. Хотя детали контрактов часто не разглашаются, Индия, Китай и африканские страны традиционно являются ключевыми потребителями российской продукции.
Укрепление рубля негативно влияет на рентабельность экспорта, что сказывается на всех отраслях. В газовой сфере основным путём поставок в Европу остаётся «Турецкий поток», при этом Китай остаётся значительным потребителем. Существует предположение, что США могли бы реэкспортировать российский газ в Европу, выкупив соответствующую инфраструктуру, но это пока лишь гипотеза.
Россия также активно экспортирует в Китай продукты питания и переработки, включая кондитерские изделия и мороженое. Однако Китай известен жёсткой позицией в ценовых переговорах и стремлением к диверсификации поставщиков, что подчёркивает риски зависимости от одного крупного покупателя.
Никита Масленников: За первые семь месяцев этого года товарооборот с Китаем сократился на 8–10%, что обусловлено переориентацией китайского экспорта на рынки Юго-Восточной Азии и ослаблением юаня. Трудности наблюдаются не только в нефтегазовом секторе, но и в зерновом экспорте: в новом сельскохозяйственном году (июль 2025 – июль 2026) прогнозируется некоторое снижение объёмов поставок. Хотя потери не будут критическими, Россия может недополучить несколько миллиардов долларов.
Одной из ключевых задач является расширение сельскохозяйственного экспорта в соответствии с мировыми тенденциями. Высоким спросом пользуются масличные культуры и продукты переработки, включая морепродукты. Развитие переработки и поставок продукции с высокой добавленной стоимостью может принести значительный экономический эффект.
Алексей Ведев: Ведев утверждает, что внешняя торговля в значительной степени независима от курса рубля. Укрепление национальной валюты снижает рублёвую выручку экспортёров, но не влияет на объёмы поставок. Существенным негативным фактором стало фактическое прекращение промышленной сборки, начатой в конце 2000-х.
Объёмы импорта из Китая напрямую зависят от внутреннего спроса, поэтому снижение поставок по некоторым категориям, таким как автомобили, на 5–8% является ожидаемым. В отношении экспорта прогнозируется сохранение уровня прошлого года как по физическим объёмам, так и по валютной выручке.
Положительное сальдо внешней торговли, вероятно, сохранится. Рубль, возможно, будет незначительно ослаблен в рамках бюджетного правила, однако это будет направлено в первую очередь на пополнение бюджета, а не на поддержку экспорта. Значительных курсовых изменений не предвидится.
Двухслойная экономика
Алексей Ведев: Алексей Ведев подчёркивает сложность разграничения влияния санкций и внутренней денежно-кредитной политики на экономику. За последние четыре месяца произошли существенные изменения: прекратился рост заработных плат, снизился спрос на рабочую силу, компании активно сокращают расходы. Экономика возвращается к более осторожной модели потребления, аналогичной ситуации трёхлетней давности. Это отражается в прогнозах: вместо 4,3% роста ВВП в прошлом году, в текущем ожидается лишь 1,2–1,5%.
Ожидается замедление роста реальных доходов населения и снижение потребительского спроса. Хотя это ещё не рецессия, заметное замедление очевидно. Высокие внутренние процентные ставки, при которых долгосрочные облигации приносят двузначную доходность, стимулируют сбережения, а не инвестиции. Это негативно сказывается на строительном секторе, где выдача разрешений на новые проекты сократилась примерно на 30%, что в будущем приведёт к снижению спроса на металл и другие строительные материалы.
Эксперт не согласен с тезисом о «перегреве» экономики, видя проблему в недооценке её потенциального роста. Сектор услуг, составляющий почти половину экономики, демонстрирует высокую производительность, особенно благодаря цифровизации. Однако, по мнению Ведева, текущая политика привела к замедлению этого процесса, результатом чего стали падение спроса и снижение общих темпов роста.
Никита Масленников: Масленников соглашается, что основные проблемы российской экономики заключаются в её хронических слабостях. На текущий момент важно определить приоритеты: либо ускоренный экономический рост, либо финансовая стабильность при низкой инфляции. Исторический опыт показывает, что дисбаланс быстро приводит бюджет и экономику в кризисное состояние.
Годовая инфляция достигла 8,77%, при том что для достижения целевых показателей необходимо снизить её до уровня около 5%. При этом бюджетный дефицит уже превысил запланированные значения и не гарантируется его сокращение к концу года. Это создаёт серьёзные инфляционные риски. В случае если дефицит достигнет 3% ВВП, Центральный банк может либо поддерживать высокую ключевую ставку в течение длительного времени, либо даже повысить её.
Новый виток санкций, если он произойдёт, негативно повлияет на нефтегазовые доходы и может свести на нет вклад чистого экспорта в экономический рост. Однако, если до конца года удастся избежать эскалации и сохранить существующее перемирие, появится возможность для постепенного снижения процентных ставок и стимулирования деловой активности.
Прогнозируется, что в следующем году рост будет более значительным, однако это будет зависеть от структурных реформ в экономике, объёмов инвестиций и повышения производительности труда. Санкции, будучи точечными и направленными на уязвимые места с конца прошлого года, требуют скоординированных действий регуляторов, новых мер стимулирования инвестиций и ускоренного внедрения технологий. Ключевым моментом станут бюджетные планы до 2028 года и решения Центрального банка в последнем квартале текущего года.
Российские власти утверждают, что экономика страны обладает «иммунитетом» к санкциям, поскольку уже продолжительное время функционирует в условиях жёстких ограничений. Возникает вопрос: существуют ли в российской экономике механизмы, способные смягчить последствия новых тарифных ограничений?
Никита Масленников: По прогнозам, новые санкции вряд ли окажут существенное макроэкономическое воздействие. Ключевым остаётся поддержание финансовой сбалансированности и ценовой стабильности посредством скоординированных действий правительства и Центрального банка, а также стимулирования частных инвестиций.











