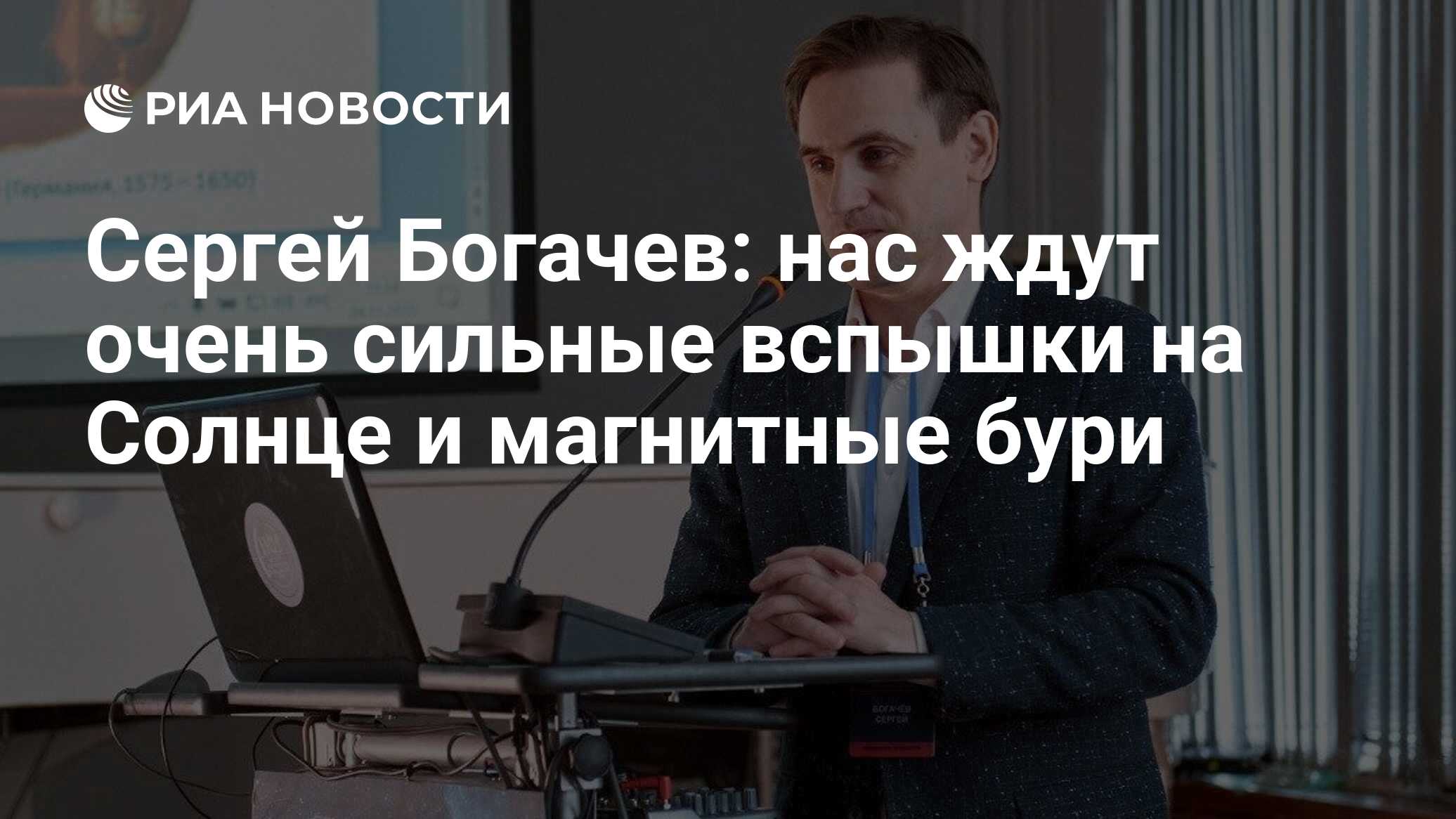
Недавно завершился очередной пик солнечной активности. Хотя он не побил исторических рекордов, его интенсивность значительно превысила все ожидания, принеся Земле несколько мощных солнечных вспышек и геомагнитных бурь. Наблюдения показывают, что в текущем столетии активность Солнца может достигнуть уровней, превосходящих пики прошлого века. Сергей Богачев, глава Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН, в беседе с корреспондентом, обсудил перспективы понимания законов солнечной активности, возможность прогнозирования ледниковых периодов, влияние магнитных бурь на человека, а также текущее состояние и будущее российской космической погоды на ближайшее десятилетие.
Каковы основные направления деятельности вашей лаборатории?
Работа нашей лаборатории естественно интегрирована в общую тематику Института космических исследований. Космическое пространство обширно и делится на различные области: галактики, звёзды, Луна, планеты. Мы же сфокусированы на изучении Солнца. Сегодня Солнце в значительной степени рассматривается с прикладной точки зрения, поскольку актуален вопрос его влияния на Землю. Это смещает фокус физики Солнца в сторону солнечно-земных взаимодействий. Нам часто задают вопрос о наличии телескопа. Но телескопа у нас нет; мы работаем с данными, полученными с космических аппаратов. Помимо анализа данных, наша лаборатория обладает производственными мощностями для изготовления приборов, разработки электроники и их испытаний.
Ваш веб-сайт преимущественно освещает солнечные вспышки и их земные последствия. Какое место эта работа занимает в общем объеме задач вашей лаборатории?
Несмотря на высокую востребованность, эта деятельность является скорее второстепенной и сопутствующей. Наша основная задача — фундаментальная наука, которая не всегда очевидна широкой публике, подобно подводной части айсберга. Например, сейчас мы активно исследуем малые вспышки на Солнце. Можно провести аналогию с бактериями: общая масса всех бактерий на Земле значительно превосходит массу всех слонов. Существует гипотеза, что и на Солнце крупные, наблюдаемые нами взрывы составляют лишь малую долю от всей высвобождаемой энергии, а скрытую часть мы не видим из-за недостаточной чувствительности приборов. Косвенные доказательства подтверждают это: горячая корона Солнца, температура которой достигает миллионов градусов, не охлаждается при отсутствии крупных вспышек. Это указывает на существование других, `невидимых` источников нагрева, которые мы стремимся обнаружить. Поэтому мы активно работаем, в том числе, доказывая необходимость запуска высокоточных телескопов в космос, способных регистрировать подобные процессы. Конечно, мы также проводим теоретические исследования. На данный момент наша группа, вероятно, является одной из ведущих в мире, занимающихся этими вопросами.
Похоже, текущий цикл солнечной активности достиг своего пика. Это окончательно или есть еще неопределенности?
Мы считаем, что возврат к пиковым значениям прошлого года на текущий момент невозможен. Наблюдаемое снижение солнечной активности уже превосходит все допустимые флуктуации и случайные отклонения. Например, за первое полугодие прошлого года было зафиксировано более 30 вспышек высшего Х-уровня, тогда как в этом году за тот же период их всего 10. Самая мощная вспышка в прошлом году достигала X8.7, а в этом — лишь X2, что в четыре раза слабее. Существуют и другие признаки, такие как большое количество корональных дыр на Солнце, которые появляются во время минимума активности, и значительное уменьшение числа солнечных пятен. Для специалиста по физике Солнца это столь же очевидные индикаторы, как пожелтение листьев или сокращение светового дня при приближении осени. Некоторые предполагают, что в солнечных циклах часто бывает два максимума, и, возможно, мы прошли лишь первый. Это действительно так, но, во-первых, между максимумами не наблюдается таких глубоких провалов. Во-вторых, два максимума встречаются примерно лишь в половине циклов. Мы полагаем, что в текущем цикле был один максимум, и он уже пройден, а сейчас наблюдается медленная, но устойчивая фаза спада.
Как завершившийся максимум солнечной активности соотносится с предыдущими наблюдаемыми циклами?
Наиболее мощным за всю историю наблюдений был 19-й цикл с пиком в 1958 году, который, как считается, совпал с вековым максимумом. Текущий же цикл, по прогнозам прошлых лет, должен был прийтись на минимум векового цикла. Все прогнозы указывали на крайне низкую активность, однако они не оправдались — зарегистрированная активность оказалась примерно вдвое выше ожидаемой. Прошедший цикл заметно, примерно на 50%, превзошел предыдущий. Тем не менее, он не стал рекордным и примерно на те же 50% уступает максимумам середины XX века. Таким образом, можно утверждать, что цикл оказался неожиданно сильным, но если кто-то считает, что пережил нечто беспрецедентное в истории, это не так. Более того, говоря о XXI веке, самый активный период пришёлся на 2001–2003 годы. Тогда отмечались крайне сильные магнитные бури и, что особенно важно, исключительно мощные вспышки до уровня X40. В прошедшем цикле ни одной вспышки уровня X10 зафиксировано не было. Мы не пережили ничего рекордного, но, возможно, природа восполнит это в следующем цикле.
Возможно ли на основе исторических данных о солнечных циклах составить долгосрочные прогнозы?
С одной стороны, предсказывать солнечный цикл кажется простым, поскольку он примерно 11-летний. Кажется, что можно просто прибавить 11 лет к дате предыдущего пика (например, 2014 год), получить 2025-й, затем 2036-й и так далее на миллион лет вперёд. Однако это не совсем корректно. Во-первых, существуют флуктуации: следующий пик может наступить через 9, 10 или 12 лет. Но это не главное. Радиолюбители поймут: в радиопередаче есть несущая частота и модуляции, которые несут сигнал. 11-летняя несущая частота относительно стабильна, но модуляция, определяющая высоту (интенсивность) цикла, сильно меняется. За 25 наблюдаемых циклов видно наличие таких огибающих, есть даже признаки столетней огибающей. Однако мы не знаем природу этих огибающих и законы их развития. Кроме столетней, могут существовать тысячелетние и миллионнолетние огибающие. В целом, мы понимаем, что такой процесс существует, и если в одной точке сойдутся вековой, обычный, тысячелетний и стотысячелетний минимумы, возможен глобальный спад активности, например, новый минимум Маундера (1645–1715 годы, характеризовавшийся малым числом солнечных пятен) или даже ледниковый период. Если же, наоборот, сойдутся все максимумы, могут произойти события, подобные Кэррингтону (мощнейшая вспышка и геомагнитная буря 1859 года) или Мияке (периоды значительного увеличения радиоактивного изотопа углерода в атмосфере в 773 и 993 годах). По всей видимости, нижнюю точку векового цикла мы прошли в предыдущем цикле, и сейчас активность растёт, поэтому все ближайшие последующие циклы будут сильнее. Следовательно, мой прогноз на ближайшие 20–30 лет — значительный рост активности, и каждый следующий цикл будет мощнее. Но, опять же, природа непредсказуема, и возможно всё произойдёт наоборот.
Сможет ли солнечная активность достичь уровней 2001-2003 годов или даже превысить рекорды середины XX века?
Возможно, активность станет даже выше, поскольку мы не знаем, какие глобальные огибающие накладываются на этот процесс. Вполне вероятно, что вековые максимумы, имеющие свои собственные огибающие, сейчас также находятся в фазе роста. Не исключено, что вековой максимум середины XXI века превзойдёт тот, что был в прошлом столетии. Однако здесь мы вступаем в область, где у нас нет достаточных данных. Проблема также в том, что солнечные вспышки не оставляют долговечных следов. Например, метеорит, упавший миллион лет назад, оставляет кратеры, и мы можем изучить его последствия. А солнечная вспышка, произошедшая миллион лет назад, не оставит на Земле никаких следов: даже вся произведённая радиоактивность полностью рассеется. Таким образом, у нас нет информации о солнечной активности, превышающей 10 тысяч лет. Поэтому, к сожалению, наши прогнозы достаточно неопределённы.
Каким образом тогда учёные получают данные о солнечной активности, датируемые более чем 10 тысячами лет?
В основном информация получена по радиоактивному изотопу углерода, С-14. Этот элемент образуется из азота, и его производство стимулируется солнечной активностью. Углерод — фундаментальный элемент для всей жизни на Земле. Он легко поглощается растениями или накапливается в антарктических льдах. События Мияке, например, были обнаружены по годичным кольцам деревьев: на срезе видно, что в определённый год произошёл пик невероятной мощности. Именно эти данные позволяют нам утверждать, что на Солнце могут происходить вспышки в сотни и тысячи раз мощнее события Кэррингтона. Вспышка Кэррингтона, точная дата которой известна, не оставила никаких следов в древесных кольцах. В то же время событие 773 года нашей эры оставило такую интенсивную радиоактивность, что мы видим этот след даже спустя более тысячи лет.
Есть ли перспективы в понимании этих модуляционных огибающих?
Прогресс в любой научной области возможен только после создания адекватной физической модели. Пока сбор данных происходит `на ощупь`, это сродни знанию слепца о предмете. Как только физика процесса становится ясна, картина значительно проясняется. Сейчас понятно, что в физике Солнца действует механизм динамо. Однако параметры, управляющие им, остаются неизвестными. Возможно, планеты своей гравитацией влияют на Солнце, или это внутренние колебания его ядра. Пока можно лишь предполагать, и нет ни одной убедительной гипотезы.
Следующий пик ожидается через 9–10 лет. Означает ли это, что до тех пор Солнце будет относительно спокойно?
Здесь уместно провести аналогию с обычным климатом. Мы знаем, что температура постепенно повышается от зимы к лету, но это не исключает снегопада в мае или неожиданной жары в сентябре на фоне общего осеннего похолодания. Примерно та же логика применима и к солнечному циклу. Активность будет медленно снижаться в течение примерно четырёх лет. Однако в этот период возможны внезапные, очень мощные события — сильные вспышки и бури. В двух предыдущих циклах рекордные события происходили не на пике, а спустя 2–3 года после него. Так, сильнейшая вспышка XXI века, уровня X40, случилась в 2003 году, хотя максимум цикла был в 2001-м. А самая мощная вспышка следующего цикла пришлась на 2017 год, спустя три года после его пика. Полностью `мёртвыми` обычно бывают лишь два-три года. В предыдущем цикле это были 2018–2020 годы, в текущем это будут примерно 2029–2030 годы, возможно, частично и 2031-й.
Возможно ли прогнозировать ледниковые периоды, если удастся полностью понять работу этого механизма?
Это довольно спекулятивная тема. Важно понимать, что Солнце как источник тепла и света светит достаточно стабильно на протяжении миллионов лет, и его глобальная светимость не влияет существенно на земной климат. Главным фактором, регулирующим температуру на Земле, считаются парниковые газы. Они пропускают солнечный свет к Земле, но препятствуют обратному излучению тепла, тем самым повышая температуру планеты. В современную эпоху средняя температура Земли составляет около +15 градусов, хотя без парниковых газов она была бы примерно -15 градусов, то есть эти газы повышают её примерно на 30 градусов. Парниковые газы — в основном трёхатомные молекулы, такие как водяной пар, CO2 (углекислый газ) и O3 (озон), — находятся на больших высотах, где активно взаимодействуют с солнечной радиацией, что делает их очень чувствительными к солнечной активности. Таким образом, гипотеза о влиянии изменений солнечной активности на парниковые газы и, следовательно, на климат Земли, является правдоподобной и широко распространённой. Её трудно подтвердить, поскольку, к счастью, мы лично не переживали ледниковых периодов. Однако существуют так называемые малые ледниковые периоды — климатические депрессии Средневековья. Они подтверждены свидетельствами современников, описывавших снег в июне и неурожаи. По крайней мере одна такая депрессия, произошедшая в период активного изучения Солнца, совпадает с периодом низкой солнечной активности. Следовательно, понимая солнечную активность, можно было бы предсказывать ледниковые периоды, но, к сожалению, на данный момент мы её ещё не до конца понимаем. Именно над этим мы сейчас и работаем.
Обращаясь к более спорному вопросу: многие полагают, что солнечные вспышки и магнитные бури негативно сказываются на самочувствии. Каково ваше мнение по этому поводу?
На самом деле, меня поражает крайняя поляризация мнений по этому вопросу, которая порой приводит к агрессивным спорам. Как учёный, я не люблю крайние точки зрения и хотел бы внести ясность в обе. Тем, кто безапелляционно заявляет, что это `всё ерунда, вы же не боитесь в трамвае кататься, а бурь боитесь`, мы обычно советуем обратиться к нормам СанПиНа. Это государственный документ, где прямо указано, что переменные магнитные поля вредны для человека, и даже предусмотрены нормы защиты. Конечно, речь идёт не о магнитных бурях напрямую, а о переменных магнитных полях в целом. Бывает и другая крайность — люди, которые пытаются объяснить любое своё недомогание внешними факторами. Это тоже не совсем правильно, особенно если приводит к самолечению. Физика действительно выявляет механизмы влияния магнитных бурь на человека. Переменные магнитные поля вызывают вихревые электрические токи не только в технике, но и в организме человека. Влияние на технику зафиксировано экспериментально, достоверно подтверждено и измеримо. Однако к человеку амперметр не подключишь, поэтому подтвердить это влияние для людей гораздо сложнее. Этой темой профессионально занимаются врачи-кардиологи. На мой взгляд, это верно, потому что, если бы я, как физик, рассматривал влияние на человека, то в первую очередь вихревые токи воздействуют именно на кровеносную систему, где много ионов и плазма крови. Тем не менее, конкретные рекомендации о том, при каком уровне бури следует принимать меры, а при каком можно сохранять спокойствие, я дать не готов.
Как эволюционировали методы наблюдения за Солнцем с наступлением космической эры?
Главное, что принесла космическая эра, это, собственно, возможность выводить приборы в космос. Атмосфера Земли, к нашему счастью, отлично защищает от вредоносных излучений, радиации, жёстких длин волн и частиц. Но для астрономии эта защита слишком эффективна: с Земли практически ничего не видно. Чтобы наблюдать солнечные вспышки во всём их многообразии, включая их потенциально вредоносное воздействие, приборы должны работать за пределами атмосферы. Конечно, огромную роль сыграл прогресс в электронике. Любой пользователь мобильного телефона видит, как увеличивается число мегапикселей в камерах. В некотором смысле, космический телескоп — это большой фотоаппарат. И те удивительные снимки, та точность, с которой сейчас можно получать изображения Солнца, в значительной степени обеспечены развитием электроники, детекторов, а также средств обработки и хранения информации. Сама оптика телескопа — труба, зеркала, линзы — на удивление, за последние 100 лет почти не изменилась. Более того, на Земле существует множество обсерваторий с телескопами, оптика которых была создана ещё в прошлом веке. Им просто обновили детекторы, и они превосходно справляются с астрономическими задачами. И, безусловно, прогресс в компьютерных технологиях. Например, самый известный сейчас солнечный телескоп SDO передаёт в сутки два терабайта изображений Солнца. Их абсолютно невозможно просмотреть и осмыслить вручную. Без компьютерных средств обработки изучение данных было бы практически невозможным.
Каковы текущие возможности России в области спутникового мониторинга Солнца? Какие данные вы используете?
Последняя российская солнечная обсерватория `Коронас-Фотон` завершила свою работу 30 ноября 2009 года. С тех пор основным источником данных являются открытые зарубежные источники. Я хотел бы отметить усилия Росгидромета: они пытаются исправить эту ситуацию, устанавливая солнечные приборы на свои метеорологические спутники. Однако эти приборы довольно просты, их можно отнести ко второму эшелону. Они могут дополнять работу крупных телескопов, но самостоятельно не способны формировать полноценный прогноз космической погоды.
Вы ранее упоминали о необходимости разработки собственного телескопа. Вы имеете в виду именно это?
Да, этот вопрос остро встал перед научным сообществом в 2009 году, после прекращения работы отечественного солнечного спутника `Коронас-Фотон`, когда возникла необходимость предложить ему замену. Тогда высказывались идеи, которые лично мне казались правильными, о создании аппарата более высокого технического уровня, основываясь на концепции размещения множества мониторинговых приборов на одном спутнике. Однако была выбрана другая концепция — создание чего-то совершенно нового, революционного. Поддержку получил проект `Интергелиозонд`, который предполагал полёт спутника к Солнцу, защиту тепловым щитом, а затем выход из плоскости эклиптики с использованием гравитационного поля Венеры! К сожалению, в нашем менталитете считается, что для запуска проекта он должен быть `революционным`, захватывающим дух. Во многом такой подход и навредил. Проект развивался с большим трудом, а в последние годы, к сожалению, практически остановился. По моему мнению, он `надорвался под собственным весом`. В последних программных документах Российской академии наук по фундаментальным и технологическим космическим исследованиям `Интергелиозонд` уже не упоминается. Однако даже если он будет закрыт, я считаю, что наработанный в его рамках задел (приборы, макеты) должен быть сохранён и передан в новый проект, чтобы не начинать с нуля. Своя солнечная обсерватория критически важна для страны, и сроки её создания имеют большое значение. В качестве примера другой концепции можно привести ведущую зарубежную солнечную обсерваторию SDO, без данных которой сегодня не обходится ни одна научная статья по физике Солнца. Главный прибор SDO, называемый AIA, — это просто четыре телескопа, хотя и очень качественных. В нашей системе такой проект, как ни печально, почти наверняка не получил бы поддержки, поскольку было бы сказано, что он не решает принципиально новых задач. Говоря о будущем, я считаю, что нам нужен относительно простой, но качественный спутник-монитор, оснащённый современными солнечными телескопами, фотометрами, детекторами частиц и мониторами солнечного ветра. Запускать его, по всей видимости, следует в точку L1, где гравитационное влияние Солнца и Земли уравновешивается. Научное сообщество поддерживает такую концепцию и орбиту. Все необходимые приборы мы можем изготовить сами, а те, что не можем, знаем, где приобрести `под ключ`. В качестве временного решения мы сейчас активно работаем над наноспутниками. Однако приборы, которые можно на них установить, очень просты и обеспечивают лишь минимальный уровень исследований. Для полноценной научной работы, конечно, требуется большой спутник.
Каковы возможности вашей лаборатории в сфере приборостроения?
Основная деятельность ведётся в рамках государственного заказа. К сожалению, в настоящее время по физике Солнца нет крупных проектов, реализуемых `в железе`; в основном это эскизное проектирование и научно-исследовательские работы. Нашу страну также затронула мировая тенденция к малым спутникам — `кубсатам`. Мы разрабатываем для них приборы. В 2023 году состоялся крупный запуск, в ходе которого в космос отправились пять наших приборов, два из которых до сих пор функционируют и передают данные. Сейчас мы работаем над новыми приборами для кубсатов, но их запуск, скорее всего, не состоится ранее 2027 года.
Могут ли частные космические компании заказывать у вас приборы?
Научным организациям разрешено, помимо выполнения государственных заданий, заниматься хоздоговорной деятельностью. Мы также участвуем в такой работе. Были случаи, когда мы разрабатывали оборудование не для себя, а для других организаций. У нас есть уникальные компетенции в области детекторов и оптики, которыми не все обладают. Такая работа ведётcя, но в основном для получения средств и поддержания коллектива. К сожалению, она не способствует развитию нашей основной научной деятельности — физики Солнца.
Интервью проливает свет на сложную и динамичную природу Солнца, подчёркивая важность непрерывных исследований и развития отечественных космических программ для понимания космической погоды и её влияния на нашу планету.









