
Патологические пережитки советской цивилизации: как они мешают российской экономике
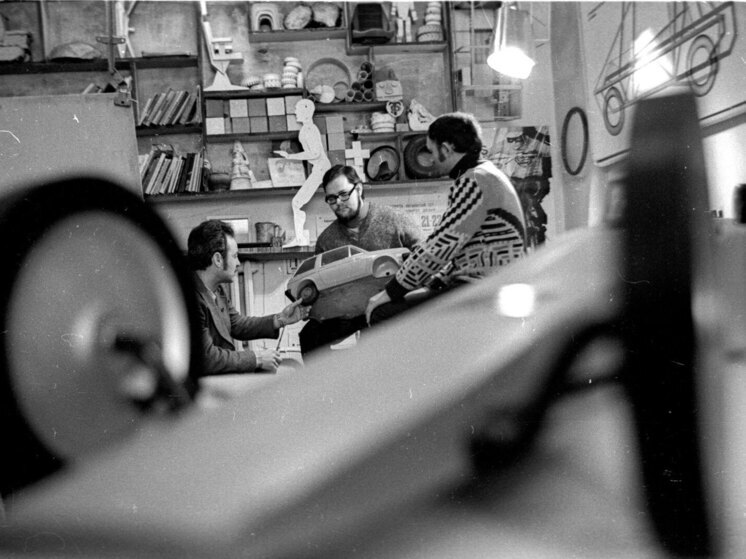
Фото: Aleksander Lyskin/Global Look Press
На пике развития советской экономической системы доля того, что можно было назвать малым и средним бизнесом (промысловая кооперация), в промышленности достигала значительных размеров — около 6% в 1940 году. Однако в целом советская модель, безусловно, была плановой, нерыночной. Рыночные элементы, несмотря на их исключительную важность (что доказывает стремительный коллапс системы после разрушения рыночного сектора при Хрущеве), выполняли лишь вспомогательные функции.
Развивая рыночные механизмы после распада Советского Союза, преимущественно в интересах финансовых спекулянтов, либеральная бюрократия приложила, и до сих пор прилагает, колоссальные усилия для ликвидации нерыночных секторов экономики (таких как фундаментальная наука) и перевода на рыночные принципы тех сфер общественной жизни, которые по своей природе не являются рыночными (например, системы жизнеобеспечения, медицина, образование и культура).
При этом те же самые «эффективные менеджеры» удивительным образом оставили в неприкосновенности наиболее вопиющие искажения рыночных норм. Эти искажения, появившиеся и усугублявшиеся в советской системе с середины 1960-х годов (начиная с пресловутой «хозрасчетной» реформы Косыгина—Либермана) в бессильных попытках совместить потребности стремительно развивавшегося и усложняющегося хозяйства с догматической марксистской схоластикой (которая к тому времени уже устарела на сто лет), сегодня выглядят как все более абсурдные анахронизмы прошлого.
Один из самых ярких примеров такого искажения — определение прибыли предприятия как заранее установленной, фиксированной доли от себестоимости его продукции. Именно этот механизм стал прямой причиной парадоксального, «самоедского» характера позднесоветской экономики и ее неосознанной, даже для самих руководителей, переориентации с первоначальной цели снижения издержек на их повсеместное завышение.
Причина этого, как и многих других (не только экономических) искажений, была примитивно проста. Первая научно-техническая революция, в полной мере развернувшаяся с конца 1950-х годов, драматически усложнила и разнообразила производства, необходимые для развития и даже выживания общества. Это привело к качественному росту числа видов продукции, что практически исключало возможность сохранения прежнего планирования на основе натуральных показателей, «в штуках и тоннах».
Компьютерные мощности, которые могли бы улучшить ситуацию, в основном использовались в оборонной сфере, но самое главное — постсталинское политическое руководство воспринимало их как совершенно неприемлемое ограничение своей власти (под которой в силу ее фундаментального разложения уже тогда понимался почти неограниченный произвол).
Столкнувшись с необходимостью (не только для планирования, но и для общего управления) объединять различные типы продукции в укрупненные группы, государство начало делать это на основе единственной системы, позволяющей такое объединение — стоимостных показателей, «в рублях». Попытка в рамках ВПК оценивать производство вооружения по другой интегрированной основе, опирающейся на прежние натуральные показатели — в тоннах, — не увенчалась успехом, так как мгновенно создала угрозу снижения качества оружия, и вошла в историю статистики и экономики как феноменальный анекдот (например, отнесение при позднем Горбачеве межконтинентальных баллистических ракет к категории «товаров народного потребления» — без всякого стратегического умысла, просто для вывода их производства из-под непосильного 5% налога с оборота).
Превращение стоимостных показателей в ключевые, базовые для всего процесса планирования и управления обеспечило переориентацию всего мышления управляющей системы на стоимостные, то есть по сути рыночные критерии. Именно это стало фундаментальной причиной ее глубокого перерождения и последующего стремительного краха, зримо напоминающего крушение самодержавной России (которая, по воспоминаниям современников, «слиняла в три дня»).
Однако стоимостная, то есть рыночная по своей основе, оценка деятельности предприятий в фундаментально нерыночных условиях советской экономической системы создала принципиально нерешаемую в силу своей внутренней противоречивости проблему определения цены производимой продукции.
Пока работа предприятия оценивалась в основном на основе выполнения плана производства в натуральных показателях, цены имели существенное значение только в секторе розничной торговли, где они балансировали доходы населения, пополняли государственный бюджет и служили ориентиром для небольшого рыночного сектора.
Однако, когда всю деятельность предприятий в условиях административной централизованной экономики начали оценивать прежде всего по финансовым показателям, проблема определения цены их продукции стала ключевой для всего хозяйственного механизма. И, несмотря на разнообразные эксперименты и противоречивые теоретические изыскания, ее в целом рассчитывали на основе себестоимости производимой продукции, увеличенной на некоторый относительно произвольно устанавливаемый процент.
Именно это стало непосредственной причиной нарастающей ориентации позднесоветской экономики на рост издержек. Ведь для того чтобы улучшить свои финансовые показатели и увеличить средства, которые они могли использовать в своих интересах (пусть даже и жестко разделенные между целевыми фондами, в рамках которых, например, средства для текущего ремонта нельзя было направить на ремонт капитальный), предприятия объективно были вынуждены наращивать себестоимость производимой продукции, попутно тормозя, а то и вовсе блокируя неумолимо снижающий эту себестоимость технический прогресс.
Поразительно, но в рамках крупных корпораций, особенно в государственном секторе, эта извращенная даже для нерыночной экономики система сохранилась и на четвертом десятилетии рыночных реформ.
Результаты носят откровенно деструктивный характер.
Прежде всего затруднено, а порой и невозможно применение современных технологий. Даже в ВПК применение хорошо известной и давным-давно освоенной прогрессивной обработки материалов, снижающей себестоимость продукции в десятки раз, становится совершенно недопустимым по сугубо экономическим причинам, так как падение себестоимости из-за советских пережитков ценообразования резко сократит средства, оставляемые в распоряжении предприятия, и ему нечем будет платить зарплату (не говоря о кредитах).
Чудовищна ситуация и при сравнении эффективности предприятий. Распространение современных технологий вызывает ликвидацию части предприятий, работающих по старым технологиям: например, распространение шпал из железобетона, сокращая потребность в деревянных шпалах, вынуждает постепенно закрывать шпалопропиточные заводы.
Разумеется, в первую очередь надо закрывать наименее эффективные предприятия. И, разумеется, эффективность предприятия оценивается по рентабельности его активов — грубо говоря, прибыли, деленной на стоимость оборудования.
Однако внутри крупной компании прибыль отдельного предприятия, не работающего на свободном рынке и жестко встроенного в технологическую цепочку, обычно механически определяется по-старому: как доля от себестоимости производимой на нем продукции. Чем современнее оборудование, тем ниже себестоимость и тем ниже (в абсолютном выражении) прибыль.
В то же время стоимость активов в рамках крупной корпорации рассчитывается на основе балансовой стоимости: цене оборудования с учетом его износа. Машины времен Иосифа Виссарионовича изношены «в ноль» и почти ничего не стоят, а современное сложное оборудование только начинает амортизироваться и стоит дорого.
В результате наименее эффективными и подлежащими закрытию в первую очередь считаются самые современные и самые производительные предприятия с новейшим оборудованием: из-за низкой себестоимости продукции у них минимальная нормативная прибыль, а из-за новизны оборудования — максимальная его стоимость.
Результатом становится последовательное и методичное разрушение производительных сил под личиной заботы о «рыночной эффективности», причем управляющие корпорациями бухгалтеры демонстрируют патологическую неспособность не то что осознать, но даже и просто вообразить последствия своих действий.
Понятно, что применение внерыночных хозяйственных механизмов вроде нормативного определения цены на основе себестоимости в рыночных условиях внутренне противоречиво и потому неприемлемо.
Однако игнорирование этого противоречия и широкое распространение извращенных патологических подходов, ставших одним из механизмов разрушения советской цивилизации, в современных условиях являются механизмами разрушения уже российской цивилизации.











